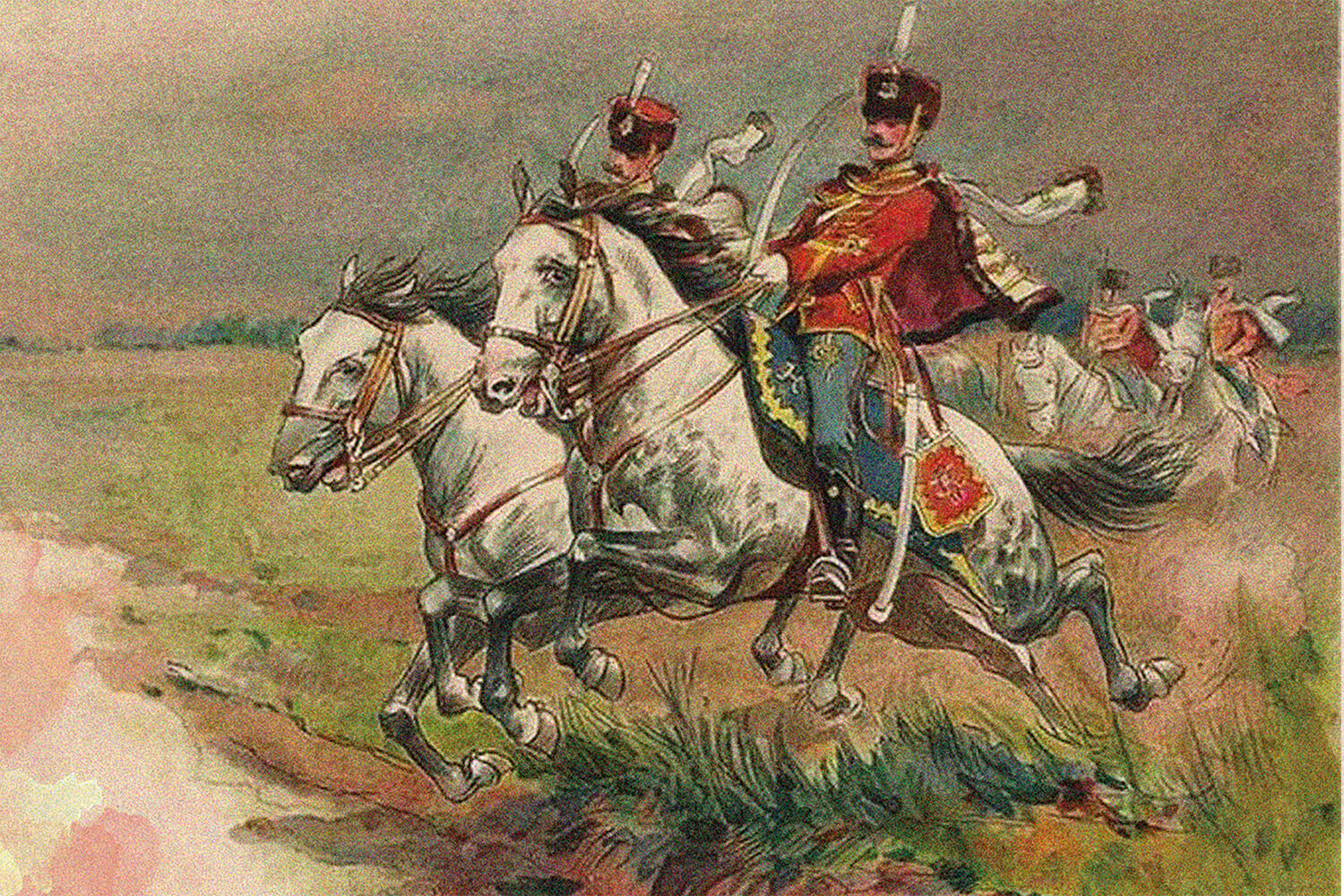Московский миф, в отличие от петербургского, литературно так и не оформился, несмотря на все усилия Булгакова и Владимира Орлова. Связано это, видимо, с тем, что Петербург, исключая новостройки, обладает цельным архитектурным обликом и уж, по крайней мере, включая новостройки, единым климатом. Москва же столь разнородна и пестра, что, мнится, даже лежит в разных климатических поясах — не шучу, это её свойство обыграл в стихотворении Леонид Мартынов:
«На одном
Конце Москвы
Дождик, слякоть, прелый лист.
На другом
Конце Москвы
Белый снег и вьюжный свист.
И хоть что ты ни надень,
Но похоже, что сейчас
Здесь в один и тот же день
И в один и тот же час
Будто целые века
Совмещаются едва.
Вот насколько велика
Современная Москва!»
Этот чрезвычайно разнородный город нашёл нескольких столь же непохожих певцов: Чистые пруды — Нагибин, Арбат — Окуджава, Покровские ворота — Зорин, Дом на набережной — Трифонов, Новослободская и Угловой переулок — Чухонцев, Большой Каретный и окрестности — Высоцкий. Главным бардом Чертанова стал Пелевин, и произошло это не только в силу того случайного обстоятельства, что он там некоторое время жил, но и потому, что сам он чрезвычайно похож на этот район: вершина советского модерна, рассчитанная на жизнь в новом небывалом обществе, но попавшая во времена куда более простые и глупые. Северное Чертаново — элитный (по замыслу архитекторов) район Москвы, задуманный в 1972 году и возведённый в 1975–1979 годах. Его любят снимать, он очень киногеничный, равно годящийся как олицетворение городских джунглей, просторных опасных окраин или архитектуры будущего. Тогда вообще было много всякого социального проектирования: Советский Союз думал о будущем и как-то его просчитывал, и даже, может быть, слишком на него уповал — потому что никакого будущего у него, как выяснилось, не было. Зато нынешняя эпоха, обжёгшись, о будущем не думает вообще. В СССР строили то дома нового быта (без кухни, потому что советский человек будет обедать в общепите), то дома нового типа, куда встраивался гараж, бассейн и кинотеатр. Один такой дом, например, стал общежитием МГУ на Шверника, 19 — Дом аспиранта и стажёра. Микрорайон Северное Чертаново был рассчитан на советскую элиту, в нём был даже гараж из расчёта одно машиноместо на три квартиры — процент фантастический даже для Москвы семидесятых. Из одного конца микрорайона в другой можно было пройти, не выходя на улицу, — через сеть холлов и подземных коммуникаций, которые их соединяли. Жители этого района должны были проводить вместе много времени — в специальных холлах, на спортивных площадках, вообще они должны были много дискутировать о прекрасном и заниматься спортом.
Вероятно, архитекторы оглядывались на лондонский Барбикан. Совершенно точно, что они имели в виду традиции советского конструктивизма — самым знаменитым памятником которого является тысячеквартирный «Дом атомщиков» на Тульской по чертежу Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского. Никакого конструктивизма — ни в литературе, ни в идеологии — тогда уже не было, а в архитектуре он как-то проснулся, хотя большинство памятников московского конструктивизма относится к тридцатым. Изломанные линии этих домов напоминают изломанную психику советского человека, а транспортная недоступность района (метро «Чертановская» появилось только в 1983 году) напоминает недоступность самого Пелевина для журналистов и не в меру усердных читателей. Сине-белые фасады романтичны, ибо это цвета матроски, а также весеннего неба с облаками. Весь этот квартал как бы звал в путь — разумеется, это путь в никуда; книги Пелевина тоже всё время обещают разгадку всех тайн бытия, пока не оставляют читателя с очередным носом, но этот трюк каждый раз исполняется на таком блистательном уровне, что не злит, а забавляет.

Пелевин тоже принадлежал к советской элите, и вовсе не по рождению, и не потому даже, что окончил спецшколу №31, а потому, что был образцовым представителем последнего советского поколения. Он близко знал многих из этих людей, постарше его лет на пять, которые успели в СССР не только сформироваться, но и начать работать: это и Михаил Щербаков, и Валерий Тодоровский, и Владимир Вагнер, и все «взглядовцы», и десятки первоклассных писателей, фантастов и нефантастов, социальных мыслителей, педагогов, режиссёров, математиков. Им, прямо скажем, не сильно повезло, потому что жизнь их словно прошла через пелевинскую «разрезалку пополам» из «Принца Госплана». Они были задуманы (или задумывали себя) для совершенно других задач, для другой среды, для позднесоветской сложности — а ввергнуты были в постсоветскую простоту, чтобы не сказать дикость. Пелевин девяностых годов, до «Generation П» включительно, ещё хранил отпечаток этой сложности, и даже в «Числах» что-то есть, — но Пелевин поздний, оставаясь значительным писателем, поставил на поток производство совершенно другой литературы, которая вся более или менее скроена по готовому рецепту с более или менее холодным носом. Почему Пелевин так поступил — понять несложно, он сам это объяснил исчерпывающе: «Блока ставить не стоит — его стихи очищают душу и будят в ней самое высокое. А если в клиенте проснётся самое высокое, мы потеряем клиента, это знает любой маркетолог».
Сравнить эту его позднюю литературу можно с современными российскими новостройками, которые возводятся гораздо быстрее и для жизни оказываются гораздо комфортабельнее, но не имеют того эзотерического смысла, который вкладывали их создатели в строительство ДАСа, Северного Чертанова или Олимпийской деревни.
Пелевин во всём — продукт позднего СССР, того самого, который, согласно его собственному определению, «улучшился настолько, что перестал существовать». Он зритель Тарковского, читатель Стругацких, активный изучатель полузапретной эзотерики, самиздата и тамиздата в диапазоне от Кастанеды до Амальрика, романтик и циник, лирик и насмешник, и ранние его рассказы похожи на позднесоветскую новостройку, в которой во всём, даже в соцреалистических фресках на стенах, сквозит обречённость. В этой эпохе, которая сформировала и меня (но, к счастью, я был младше, и мне проще было переадаптироваться), был не только гротеск, не только глупость, не только абсурд кремлёвских старцев или передачи «Девятая студия» (которая всё же давала сто очков вперёд современной телепропаганде) — но ещё и пронзительная, глубокая печаль, которую не с чем сравнить. Печаль эта разлита и в советских спальных районах, в этих высотных громадинах на краю города, между которыми так много закатного неба. Почему-то именно закатного, хотя видывал я их в разные времена — я ведь живу на такой окраине, которая с тех пор успела стать центром. За московскими новостройками отчего-то всегда угадывалось море, которого там не было, — точно так же, как за московской Олимпиадой, за восьмидесятыми, даже за Афганистаном — тоже угадывалось будущее, которого тоже не было, а только сплошной Чернобыль. Пелевин — поэт этих окраин, этих типовых и нетиповых домов семидесятых, этой футуристической утопии в стране без будущего, о которой он написал красивее и поэтичнее всех. Вообще же образ Москвы в целом выглядит у него так: «Широкий бульвар и стоящие по сторонам от него дома напоминали нижнюю челюсть старого большевика, пришедшего на склоне лет к демократическим взглядам.
Самые старые здания были ещё сталинских времён — они возвышались подобно покрытым многолетней махорочной копотью зубам мудрости. При всей своей монументальности они казались мёртвыми и хрупкими, словно нервы у них внутри были давно убиты мышьячными пломбами. Там, где постройки прошлых лет были разрушены, теперь торчали грубо сработанные протезы блочных восьмиэтажек. Словом, было мрачно.
Единственным весёлым пятном на этом безрадостном фоне был построенный турками бизнес-центр, похожий своей пирамидальной формой и алым неоновым блеском на огромный золотой клык в капельках свежей крови. И, словно яркая стоматологическая лампа, поднятая специальной штангой так, чтобы весь её свет падал в рот пациенту, в небе над городом горела полная луна».
Это и есть подлинная поэзия, потому что Пелевин — прежде всего сказочник. Его залитая луной московская окраина превращается в пространство бесконечных волшебных трансформаций. Он ввёл в свою прозу Битцевский парк — второй по величине (после Лосиного Острова) московский лес, в котором разворачиваются главные события «Священной книги оборотня» (одного из лучших романов периода «Эксмо»). Битцевский парк — тоже весьма символичное пространство, часть мегаполиса и при этом остров дикости в нём: сам Пелевин любит там совершать пешие и велосипедные прогулки (а говорят, что и пробежки). Именно в Битцевском парке совершилось волшебное преображение лисы А-Хули, единственной героини пелевинской прозы, которая вызывает у читателя некие эротические чувства (не считая, конечно, крысы Одноглазки из «Затворника и Шестипалого»). Помните? «Эпицентром аномалии был обширный пустырь на границе парка, где расположен трамплин для прыжков на велосипеде. Рядом с трамплином обнаружены полурасплавленная рама от велосипеда Canondale Jekyll 1000 и остатки колёс. Трава в радиусе десяти метров вокруг трамплина выжжена, причём выгоревшее пятно имеет форму правильной пятиконечной звезды, за границами которой трава не пострадала. Рядом с велосипедной рамой найдены предметы женской одежды: джинсы, пара кроссовок, трусики типа “неделька” со словом “Воскресенье” и майка с вышитой на груди надписью “ckuf”».
Битцевский парк — тоже очень пелевинское место, я не нашёл бы лучшей локации для его героини, кроме разве что Лосиного Острова. Эта зелёная зона на юго-востоке Москвы (удивительно, как слово «зона» прикладывается тут даже к самым прекрасным вещам) удивительным образом сочетает уединённость и соседство густонаселённого Ясенева; дикость и относительную цивилизованность, даже комфортабельность. Тут бы и отдыхать — но место опасное, Пелевину наверняка не раз пригодились тут его каратистские навыки или как минимум способность быстро бегать; именно здесь у него однажды украли на минуту оставленный велосипед. Словом, это такой же клубок противоречий, каков сам Пелевин, и одновременно символ такого уединения, которое не исключает пребывания в гуще Москвы. Пелевин так и пишет — находясь неизвестно где, ни с кем не общаясь, всё о себе скрывая, но при этом неизменно оказываясь в гуще проблем, занимающих всех; наверняка он как раз сейчас вписывает коронавирус в свой новый августовский роман, если только не стал с самого начала, благодаря своему дару предвидения, писать его о коронавирусе.

У Пелевина есть ранний рассказ «Онтология детства» — притча о ребёнке, выросшем в тюрьме; что это тюрьма, читатель понимает где-то к середине текста (иной не понимает до конца, как и в жизни, впрочем). Там описаны игры и простые радости этого ребёнка: наблюдение за тенями, за цементом, которым скреплены кирпичи, за разговорами и настроениями взрослых, которые на весь день уходят на работу и возвращаются усталыми, но подобревшими, потому что с утра все страшно злые, как и положено в условиях несвободы. Так вот, у советского ребёнка, который вырос в спальном районе, были такие же простые радости: игры на пустырях, траншеи для труб, поскольку пространство меж домами вечно было перекопано; всякие интересные обрезки, железки, стеклянные шарики, трансформаторные пластины в виде Ш, выброшенные аккумуляторы или сварочные стержни… Ребёнок готов играть чем угодно, не обязательно покупать ему немецкую железную дорогу. И вот эти ощущения пелевинского героя из «Онтологии», та бесконечная грусть, которая царила весенними вечерами на московских окраинах, — они более чем знакомы чертановскому жителю. У меня была любовь по соседству, в Ясеневе, я ездил туда именно этими долгими пустыми и просторными — Москва была тогда просторна — весенними вечерами, и смотрение в окно, на зелёный вечер над московской кольцевой, — было исключительно поэтическим занятием. И вот вид из московского окраинного окна у Пелевина как раз описан: «Чем ты взрослее, тем незамысловатее этот мир, и всё же в нём есть много непонятного. Взять хотя бы два квадрата неба на стене (неба, если сидеть на нижнем лежаке, а с верхнего видны ещё верхушки далёких толстых труб). Ночью в них появляются звёзды, а днём — облака, вызывающие очень много вопросов. Облака сопровождают тебя с самого детства, и их столько уже рождалось в окнах, что каждый раз удивляешься, встречаясь с чем-то новым. Вот, например, сейчас в правом окне висит развёрнутый розоватый (уже скоро закат) веер из множества пушистых полос — словно от всей мировой авиации (кстати, интересно, как видят мир те, кто мотает свой срок в небесах), а в левом небо просто расчерчено в косую линейку. Получается, что сегодня та бесконечно далёкая точка, откуда дует ветер, как раз напротив правого окна. Наверняка это что-то значит, и тебе просто неизвестен код — вот оно, перестукивание с Богом. Здесь не ошибёшься». Читая это, ты тоже не ошибёшься — ты безошибочно узнаешь это чувство детской тоски, восторженной и поэтической, чувство, которое можно испытать только в окраинном спальном районе… но, что особенно важно, ещё и на исходе кровавого века, в конце имперской эры, и поэтому именно Блок был любимым поэтом последних советских поколений. Нашим серебряным веком были семидесятые, и нам он был понятен как никто, и недаром он сам любил жить на тогдашней окраине, на Пряжке, откуда открывался вид на залив и далёкие корабли. Сегодняшние дети тоже должны чувствовать нечто подобное, только период у них покороче, трубы окраинных ТЭЦ должны быть пониже и дым пожиже; а мы видели их такими, какими рисовал их в своих графических работах Гариф Басыров, живший в Матвеевском как раз напротив меня, — любимый художник любимого советского журнала «Химия и жизнь», на котором росли мы все, включая Пелевина. Он же, кстати, и печатался там. Вот работами Басырова и надо бы проиллюстрировать этот текст, а по большому счёту — для всей книги «Синий фонарь» они подошли бы идеально.
В Чертанове нет достопримечательностей. Экспериментальный квартал — и только. Все церкви — новоделы последних 20 лет, в этом смысле никаких отличий, скажем, от Свиблова. Зато московские корреспонденты периодически отыскивают дом Пелевина и опрашивают соседей; соседи почти ничего не могут о нём сообщить, кроме того, что он «мужик как мужик». Так и должен выглядеть классик русского пограничья, иначе убьют. Даже не пойму, чего бы я хотел больше: чтобы Пелевин жил сейчас за границей, где железный занавес явно опустится не навсегда, — или в Чертанове, рядом с нами, в проекте несостоявшегося советского будущего. Хочется как-то, чтобы он был здесь и там одновременно. Везде и нигде. Как, собственно, и вся породившая его эпоха — которая то ли кончается навсегда, то ли оказалась бесконечной.