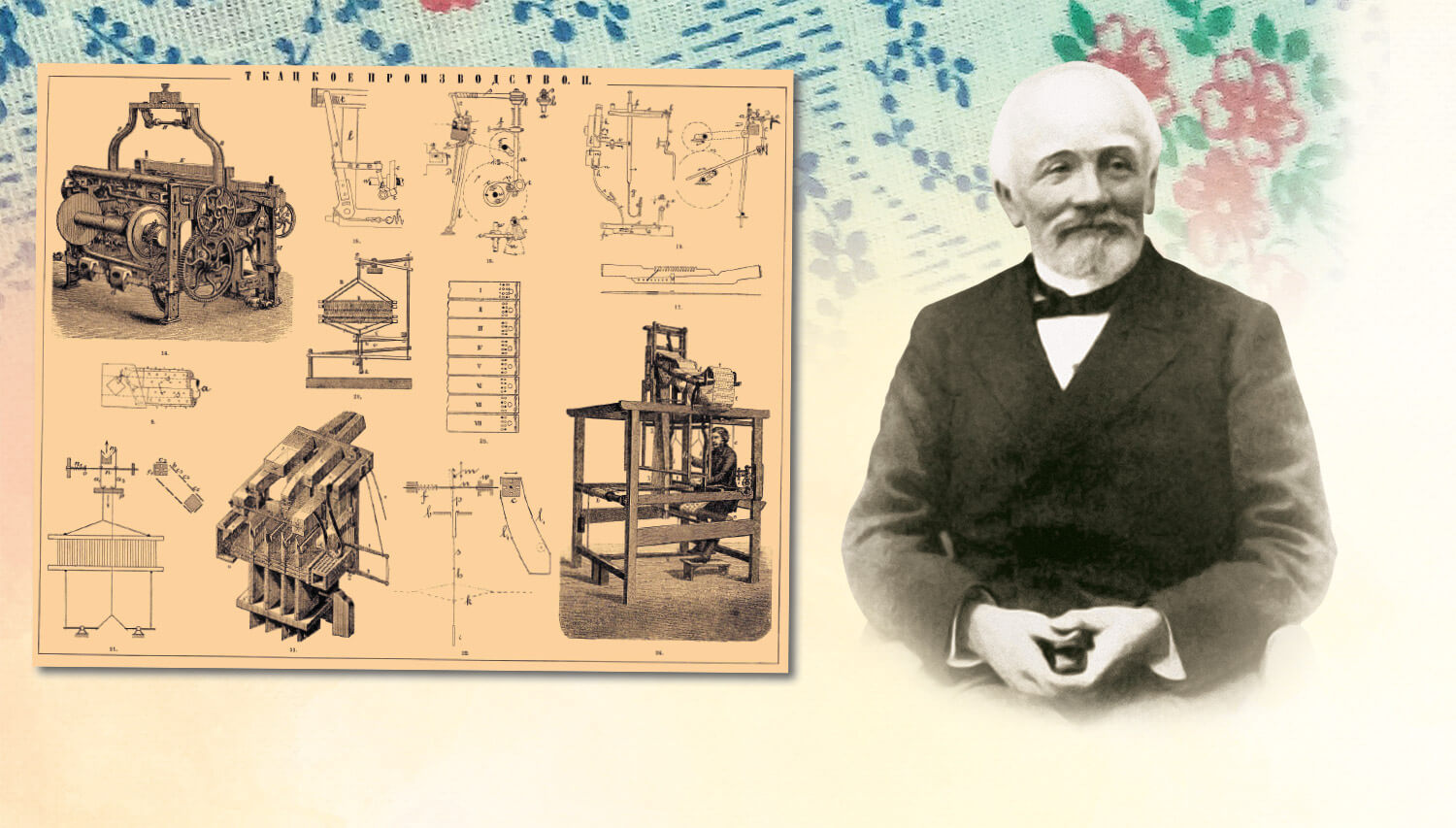Воробьевы горы издавна стали местом романтических событий. На берег Москвы-реки приходят в выпускной вечер школьники, приезжают молодожены. А без малого двести лет назад два подростка поклялись здесь посвятить свои жизни совместной борьбе со «свинцовыми мерзостями» русской жизни.
Имена Герцена и Огарева известны, пожалуй, всем, кто вырос в России. Советская школа нескольким поколениям детей вбивала в память казенный ржавый гвоздь: «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию…». Поклявшиеся посвятить свою жизнь борьбе с государственной машиной истребления свободной мысли превратились в картонные куклы на службе такой же машине.
Герцен и Огарев были единственными сыновьями богатых помещиков. С рождения их обхаживала подневольная крепостная дворня. Сашин отец, Иван Яковлев — никогда толком не служивший отставной екатерининский лейб-гвардейский капитан, был человеком с острым, но холодным умом. Много лет он праздно путешествовал по Европе, пока в Штутгарте в него, 44-летнего, не влюбилась 16-летняя дочь мелкого чиновника Луиза Гааг. Она бежала к нему от родителей, забеременела, и он привез ее в Москву, где и родился Саша. «Неравный» брак не оформляли, и отец, как было тогда принято, дал незаконнорожденному сыну придуманную фамилию, от немецкого Herz — сердце. Впрочем, чувства его к доброй, но слабохарактерной Луизе быстро угасли, да и маленький сын интересовал его мало; Яковлев сделался домашним тираном — суровым и желчным. Таким же домашним тираном был и отец Огарева — Платон Богданович, жена которого умерла, когда маленькому Нику исполнилось два года.
Домашнее воспитание мальчиков сводилось к «строптивой и ненужной заботливости о физическом здоровье, рядом с полным равнодушием к нравственному». Каждый из них, вспоминая свой дом, называл его «хмурым», а атмосферу в нем — «душной». Общения со сверстниками почти не было, присутствия при «взрослых» беседах— тоже. Представление об окружающем мире черпалось из разговоров дворни и с дворней, с гувернерами и учителями, а идеал — из романтических книжек Шиллера. Этот мир оказался не просто далеким от идеала, но столь несправедливым, что нуждался в скорейшем исправлении — о нем тайно мечтали и экзальтированный деятельный Саша, и замкнутый лиричный Ник.
«…Перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками».
Александр Герцен, «Былое и думы»
Поражение «стремившихся к общей пользе» декабристов несколько отрезвили подростков: стало ясно, что быстро привести мир к идеалу не получится. Высокие порывы дополнились новыми чувствами — жаждой отмщения казненных. А тут еще Саша узнал, что его учитель Бушо — беглый санкюлот, не забывший первый неофициальный гимн революционной Франции Ça ira. Волна революции (разумеется, красивой, как на картинке) стала казаться подросткам естественным способом очищения на пути к свободе и общему благу.
Мальчики, хоть и были знакомы уже несколько лет, сошлись внезапно: у них был один и тот же немец-учитель, и как-то он привел Ника в дом Яковлева на весь день. Герцен предложил почитать Шиллера — вкусы и мысли их совпали в мельчайших деталях. Завязался разговор, от Шиллера перешли к потаенным стихам Пушкина и Рылеева, от них — к декабристам… Ни один из них прежде не ощущал такого родства душ и мыслей.
Встречи Герцена и Огарева стали почти ежедневными. Мальчики бродили по Воробьевым горам и не могли наговориться, все больше ощущая общую свою избранность и предназначенность. Однажды летом 1827 года на заходе солнца они «вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать жизнью на избранную борьбу».