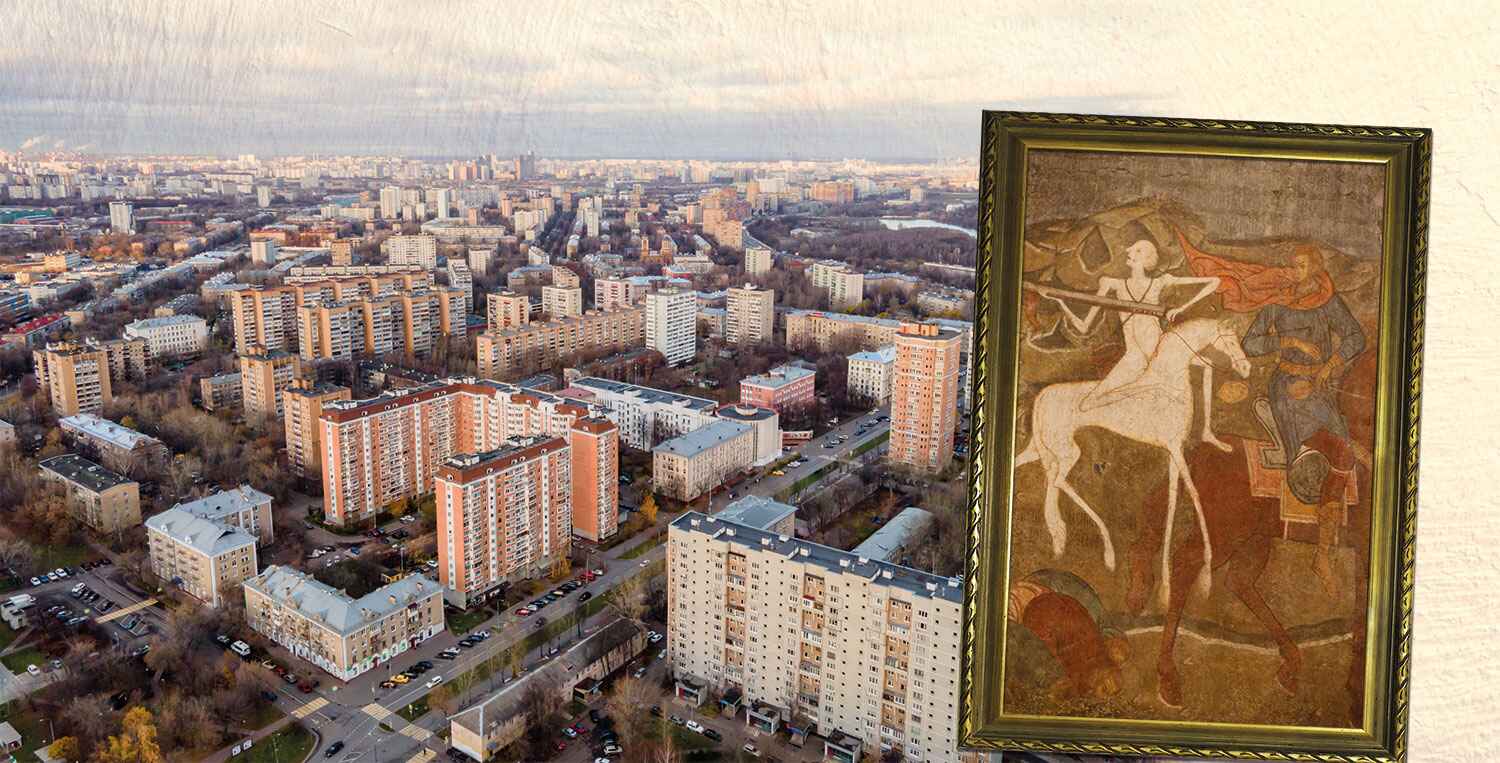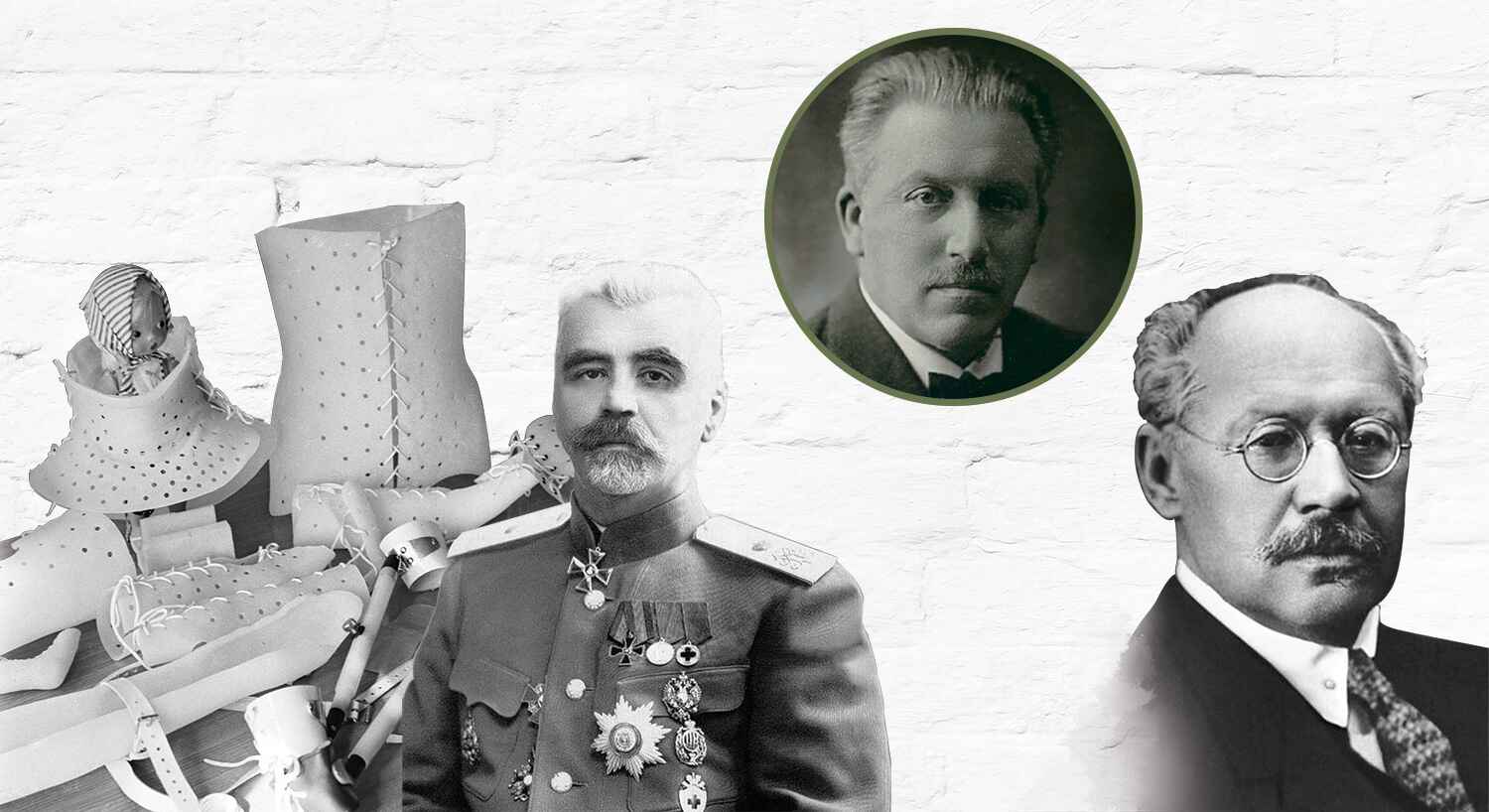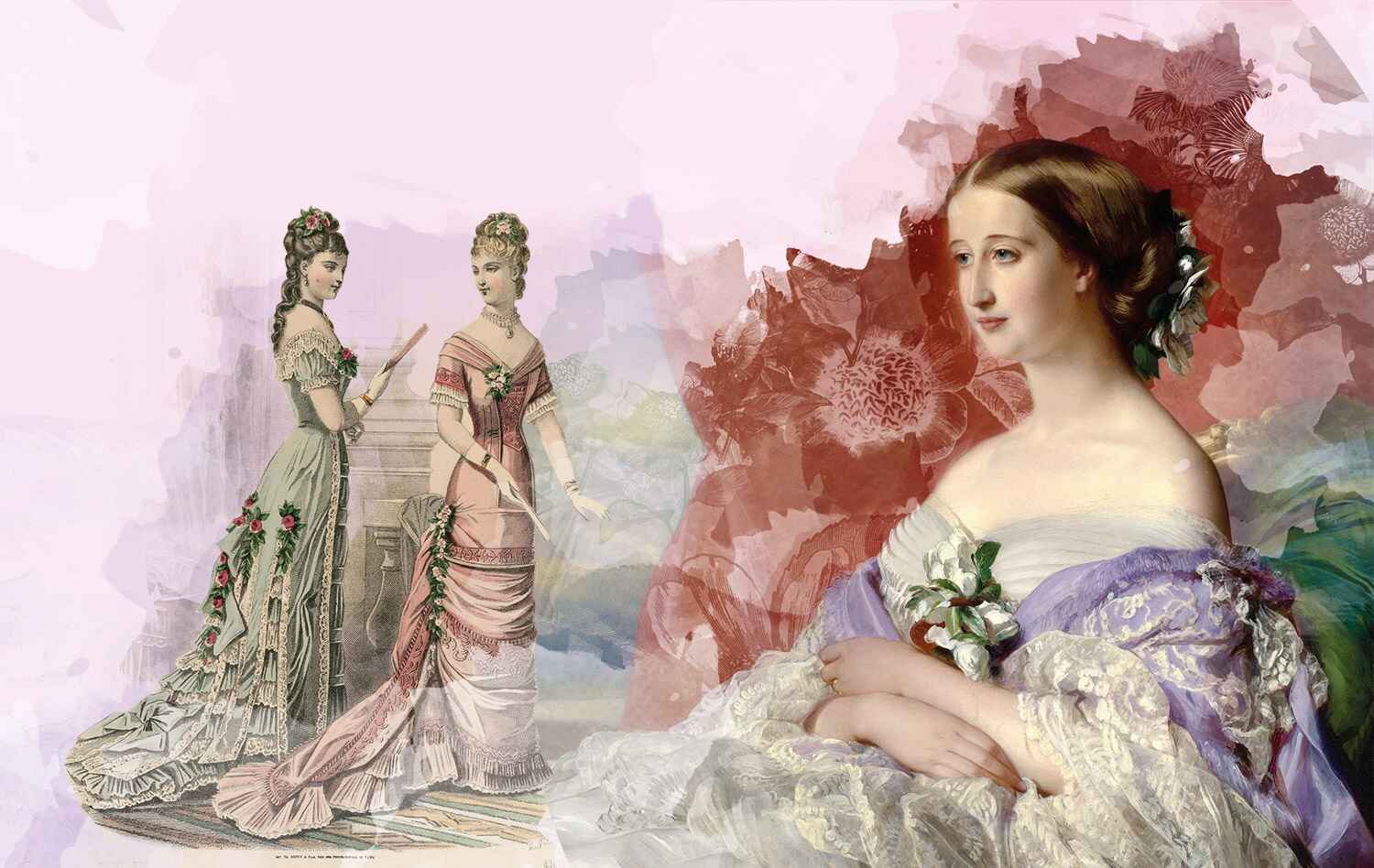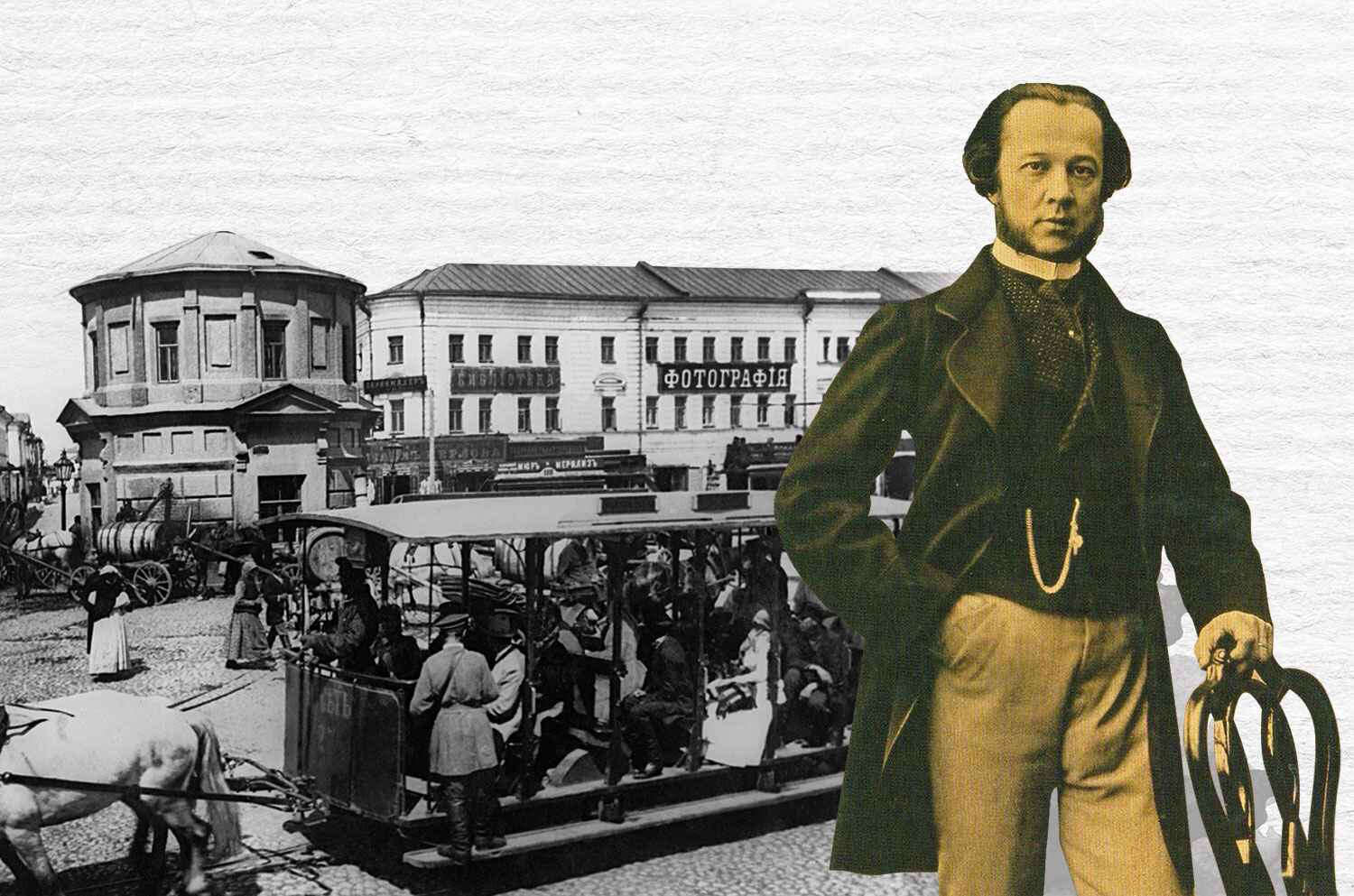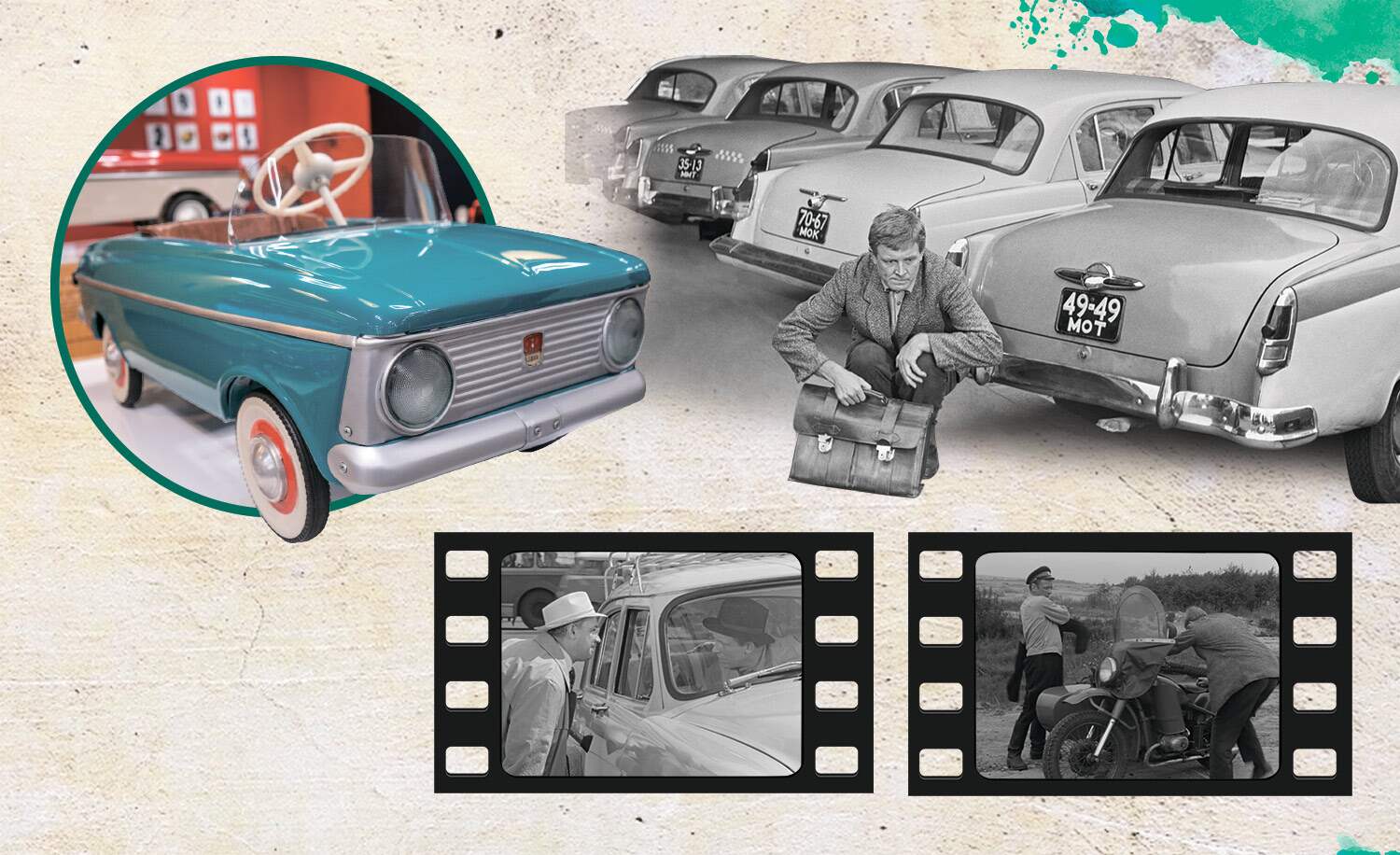«Вся земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет», — якобы писали новгородцы варягам в IX веке, приглашая их тот самый порядок навести. Слова эти сохраняли злободневность и семь-восемь столетий спустя: Московское государство воевало все успешнее, земля разрасталась, а вот с порядком на ней проще не становилось. Более того, периодически многие местности приходили в такое состояние, что иногда не оказывалось среди кого его наводить. В полной мере это касается и деревни Коптево, давшей название сегодняшнему району.
Акты многочисленных приказов, в первую очередь Поместного, бесстрастно фиксируют запустение там и сям. Постоянно встречающееся в них слово «пустошь» — это не любое незаселенное место, а именно когда-то населенное и возделываемое. В чем же причины того, что в стране, где землепашцы и землевладельцы все время жалуются на малоземелье, целые островки некогда пахотных земель бывали подолгу заброшены?
«Быть сему месту пусту»
Бывали для этого причины естественные — моровые поветрия и голод. Например, страшная эпидемия чумы в середине XVII в. выкосила целые волости в центральных районах Московского царства: ареал ее распространения на северо-западе достигал Старой Руссы, на востоке она дошла до Нижнего Новгорода, а на севере — до Вологды. Случившийся об эту пору на Руси и застрявший в Коломне на карантине антиохийский патриарх Макарий свидетельствовал: «Деревни тоже, несомненно, опустели, равно вымерли и монахи в монастырях. Животные, домашний скот, свиньи, куры и пр., лишившись хозяев, бродили, брошенные без призора, и большею частью погибли от голода и жажды, за неимением, кто бы смотрел за ними». Более частой причиной запустения бывали голодные годы, случавшиеся с завидной регулярностью. Особенно памятен трехлетний страшный голод 1601–1603 гг., когда сотни неубранных мертвых тел лежали на улицах Москвы, — он послужил одной из причин страшных бедствий Смутного времени, поскольку народ увидел в нем доказательство «неправильности» выборного царя Бориса Годунова.
И все же чаще причины бывали «рукотворные» — бегство крестьян во второй половине царствования Ивана Грозного, гражданская война все в ту же Смуту, гонения на старообрядцев. Правительство, постоянно озабоченное доходами казны, время от времени бралось за проведение некоей системной политики в направлении заселения таких пустошей новыми жителями. Особенно этим отличался деятельный Петр I: «Великий государь указал: в патриарших, и в архиерейских, и в монастырских вотчинах пустоши и церковные пустые земли, которые прежь сего были и ныне на оброках всяких чинов за людьми, с сего своего Великого Государя указа отдавать челобитчикам на оброк же вовсе, и на тех пустошах и церковных пустых землях вольно им, проча себе и женам своим и детям, крестьян селить и всякие заводы заводить», — читаем мы в указе 1702 года. В переводе с тогдашнего бюрократического на современный русский язык, речь идет об изъятии бесхозно используемых церковных земель с передачей их в бессрочную аренду на условиях хозяйственного освоения и уплаты налога. Надо понимать, что в некоторых случаях такие «пожалования» оказывались не наградой, а дополнительным бременем, от которого нельзя было уклониться: ведь переселение крестьян на новое место и возврат в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель требовали вложений, которые неизвестно когда окупятся.
«Прибирание» к рукам церковной (в первую очередь монастырской) собственности продолжили и преемники Петра. Например, Екатерина I в 1726 г. запретила «бить челом о даче монастырских деревень» (то есть просить о пожаловании за заслуги или в связи с «недостаточностью»), но там же разрешила претендовать на выморочные церковные деревни, а Анна Иоанновна в 1733 г. этот указ подтвердила. Вообще, в течение XVIII в. происходит постепенное изменение принципа: наградой за службу все чаще и чаще становится жалование, а земли направляются в руки тех, кто может организовать на них хозяйственную жизнь.

Анна Иоанновна (1693–1740). Неизвестный художник, XVIII век; Екатерина I (1684–1727). Художник Жан-Марк Натье, 1717 год; Богоявленский монастырь
Прокурор-помещик
Видимо, именно в таком ключе надо рассматривать перипетии, происходившие с деревней Коптево (впрочем, как она только не называлась!). После Смуты мы обнаруживаем пустошь «Попково, Неверово, а Коптево тож» среди владений московского Богоявленского монастыря «что в Москве в Китай-городе за ветошным рядом» (Богоявленский собор и сейчас высится в одноименном переулке). Сто с лишним лет спустя эти земли, именуемые Семеновской пустошью (т. е. монастырь так и не справился с их заселением), были переданы Семену Евстратовичу (в других источниках — Евтроповичу или Евстроповичу) Молчанову. Обстоятельства и условия этой передачи не вполне ясны.
Жизнь и деятельность Семена Евстратовича преимущественно связаны с Тульской губернией. Там он служил губернским прокурором, т. е. был фигурой довольно могущественной: к полномочиям этих чиновников относилось опротестование незаконных действий администрации и суда и информирование столичных властей о деятельности местных учреждений. В этом качестве Молчанов дослужился до ранга статского советника, что равнялось армейскому бригадиру, упраздненному позднее чину V класса между полковником и генерал-майором. Там же, по-видимому, находился и основной законный источник его благосостояния: большие села Бахметьево неподалеку от Богородицка и Покровское к северо-востоку от Епифани (позже он даст его в приданое за дочерью Евдокией, которая выйдет замуж за князя Вадбольского — это тоже немало говорит о статусе!), в общей сложности около 400 душ крепостных, половина — на барщине, половина — на оброке. Это — немало (подавляющее большинство дворян имело менее ста душ), да и земли расположены в весьма плодородных районах.
Девелоперская схема XVIII века
Помимо «основных активов» губернский прокурор имел в Москве часть малого сельца Головина, давшего название нынешнему Головинскому району. Он прикупил его по случаю в 1737 году у Ивана Ивановича Хлопова, потомка двоюродного брата несостоявшейся жены царя Михаила Федоровича. Больших доходов эта часть давать не могла — 2 двора, десяток душ, земля «средственная» (посредственная), т. к. «иловатая». Можно предположить, что Семен Евстратович приобрел его «престижу для», но, судя по его дальнейшим действиям, он имел на него вполне хозяйские виды. В середине 1750-х он продал его заинтересованному лицу, камергеру и генерал-лейтенанту Алексею Дурново, уже купившему еще одну часть Головина; однако до этого Молчанов каким-то образом добивается прирезания в его пользу части земель Богоявленского монастыря, прилегавших к его головинским владениям с запада. Похоже, было сочтено, что земельные владения монастыря не соответствуют его фактическим штатам (братия была не слишком значительной и насчитывала менее 20 человек), и избыточные земли были проданы или даже переданы соседу-мирянину «на условии их заселения».
Известно, что к 1766 году (судя по всему, в следующем 1767-м статский советник скончался) на месте пустоши возникло сельцо Сергиевское-Семеновское; второе название было призвано увековечить имя владельца, а вот первое происходит от его намерения воздвигнуть храм, посвященный Сергию Радонежскому. Заселить его крестьянами Семен Евстратович мог двумя способами: купить новых или перевести сюда из тульских имений малую часть имеющихся; обычно в XVIII в. экономные хозяева выбирали второй путь. На карте 1770 года у сельца уже три названия, добавилось Георгиевское, и связано это с тем, что к этому времени оно было продано грузинскому царевичу Георгию Вахтанговичу. Вероятно, это сделали уже наследники губернского прокурора, скорее всего, единственный сын Сергей Семенович. Больше оно не пустело.