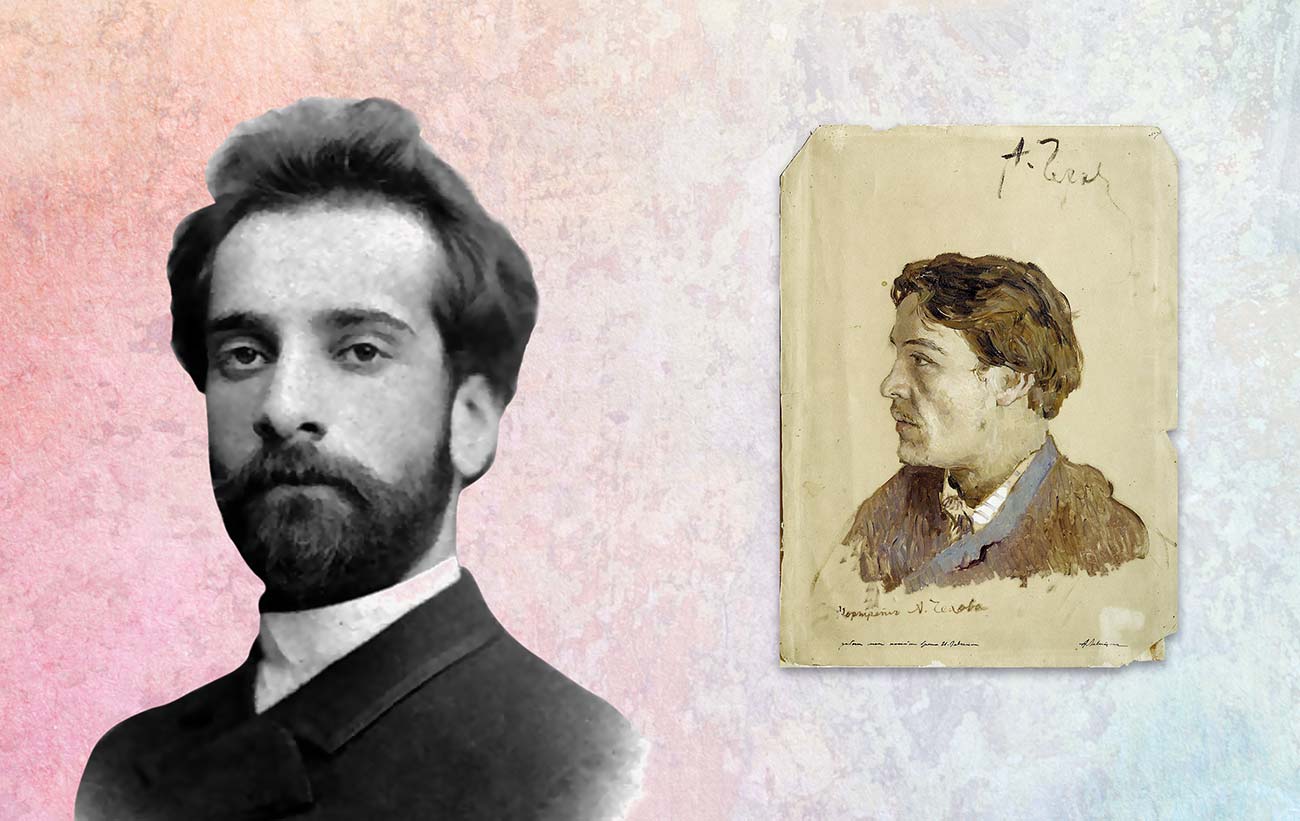При Петре Первом старая аристократия уступила место новой — «счастья баловням безродным». Бояре Московского царства ушли со сцены… почти. При Полтаве войсками командовал именно представитель старинной боярской семьи Борис Петрович Шереметев. Благодаря ему вешняковский род Шереметевых обрёл неувядаемую славу.
Посланник за «Вечным миром»
Шереметев занимал в гнезде Петровом видное место, но «птенцом» его не назвать. Во время Полтавской битвы Борису Петровичу Шереметеву было уже почти шестьдесят, а войсками он впервые командовал ещё до воцарения Петра. В 1681 году он отбивал набеги татар с несколькими полками. На следующий год Шереметев стал боярином и затем долгое время выполнял дипломатические миссии.
Весной 1686 года в Москве был подписан договор о «Вечном мире» между Россией и Речью Посполитой. Переговоры длились семь недель и завершились для московского царя невиданным успехом. Россия получала по договору Киев, всю Левобережную Украину, Запорожье и Смоленск. Взамен Москва вступала в антиосманскую коалицию и обязывалась воевать против крымских татар. Шереметев участвовал в переговорах и был пожалован деньгами, дарами и званием ближнего боярина.
24 июня 1686 года Шереметева отправили к польскому королю — ратифицировать подписанный дипломатами в мае договор. С королём предстояло ещё обсудить множество важных условий. Борису Петровичу нужно было решить вопрос о принадлежности нескольких городов Правобережья, в том числе Черкасс и Чигирина; проверить, исключил ли король из своего титула названия отошедших России земель; выяснить, не ведутся ли тайные переговоры с османами и турками. Россия торопилась закрепить успех. И потому любые задержки в пути вызывали гнев Посольского приказа.
Из-за плохих дорог посольство застряло в Смоленске, и Шереметев оправдывался: «не починив тележенок, которые ломались на грязных и топких местех в пути поспешить было нам скорее того невозможно». Не торопилась и польская сторона. Переговоры затягивались, во Львове делегацию вместо сенаторов встретили только «бурмистры со всеми мещаны и армяны». Король принял послов лишь 28 сентября. Осень прошла в бесконечных прениях. Сенат не желал принимать условия России, король Ян Собесский предлагал обсудить все детали когда-нибудь позже. Но настойчивость русских послов привела к нужному результату. 12 декабря король ратифицировал «Вечный мир».
Всё время Борис Петрович проводил в разъездах: то с дипломатическими поручениями, то с военными миссиями. Поэтому в борьбе за престол между Софьей и Петром он не участвовал. С одной стороны, ему это сыграло на руку: после падения Софьи его могла постичь судьба главы Посольского приказа князя Голицына, лишённого всех почестей и привилегий. С другой стороны, он и не поднялся по карьерной лестнице, так и оставшись белгородским разрядным воеводой.

Мальтийский рыцарь и герой Полтавы
В 1695 году Шереметеву поручили собрать в Белгороде армию и ударить по турецким городам в низовье Днепра. Вместе с гетманом Мазепой они взяли город Казы-Кермен. Обстрел крепости не принёс результата, и было решено провести подкоп. «Науголную башню, которая стояла на углу Ачаковской стороны, от поля и от болшаго рва, подкопом взорвало и пушки с той разметало», — писал царям Ивану и Петру боярин Шереметев.
В 1697 году Борис Петрович вернулся на дипломатическое поприще. Боярин вёз письма к австрийскому императору, венецианскому дожу, великому магистру Мальтийского ордена и к самому Папе Римскому. Через Польшу он проехал тайно под именем ротмистра Романа. Дальше — Вена, Баден, Венеция, Падуя, Феррара… В Риме он удостоился аудиенции у Великого понтифика Иннокентия XII, затем отправился на Мальту. Там великий магистр в торжественной обстановке возложил на русского боярина мальтийский командорский крест.
В Москву Шереметев вернулся другим человеком—мальтийским кавалером, боярином, смело носившим европейское платье, набравшимся знаний. Неудивительно, что теперь его гораздо теплее приняли при дворе. Борис Петрович Шереметев стал одним из ближайших сподвижников Петра. А остальные бояре старались брать с него пример.
В 1700 году при Нарве Шереметев командовал конницей. Как и другим русским полководцам, здесь ему не удалось стяжать воинскую славу. Но Пётр, всецело доверяя ему, по-прежнему давал ответственные поручения—и не ошибся. После Нарвы Шереметев одерживал победу за победой и захватил стратегически важные крепости. Через год Борис Петрович разбил армию генерала Шлиппенбаха при Эрестфере, за что получил чин генерал-фельдмаршала и орден Андрея Первозванного (третьим из русских подданных, после Головина и Мазепы). В мае 1703 года Шереметев осадил и заставил капитулировать Ниеншанц, а через год стоял под стенами Дерпта.
Шереметев за несколько лет войны изменился. Он стал осторожнее, даже чрезмерно, как при осаде Дерпта, которая удалась лишь после того, как армию возглавил сам царь. Но стремительные и умелые набеги его строго выстроенной дисциплинированной конницы принесли немало побед.
В 1709 году Шереметев мог нанести шведам мощный удар под Полтавой ещё до приезда Петра в армию, но генерал-фельдмаршал и здесь действовал нерешительно и ограничился диверсиями. Во время самой легендарной баталии он командовал центром русской армии (а формально и всеми войсками). Слева — кавалерия Меншикова, справа — кавалерия Баура, артиллерией руководил Брюс. После победы раненный в битве Шереметев стал одним из главных её героев, а в награду получил и славу, и поместья.

А. Е. Коцебу. «Полтавская победа»
Но следующее его крупное военное предприятие окончилось поражением и личной трагедией. После Полтавы шведский король Карл XII бежал в Бендеры, под защиту Османской империи. Пётр требовал выдать Карла, но султан в ответ сам объявил России войну. В начале 1711 года Шереметев двинулся на юг. Ему было приказано пересечь Днестр с кавалерией, навести переправы и запастись продовольствием для остальной армии, которая шла следом.
Но всё пошло не по плану. Сначала навстречу графу вышли турецкие войска, и пришлось повернуть назад. Затем выяснилось, что местные жители настроены к русской армии не так дружелюбно, как полагал Пётр. Тем не менее царь решил не отступать. Пехотинцы гибли от жары днём и от холода по ночам, не хватало провианта и фуража для лошадей. В июле русская армия оказалась прижата к реке Прут, и Петру пришлось пойти на невыгодные условия мира, проще говоря, капитулировать. Турки потребовали вернуть им Азов и Таганрог, пропустить Карла XII в Швецию, а также оставить заложников, в том числе и сына графа Шереметева Михаила Борисовича.
В плену сын генерал-фельдмаршала сошёл с ума, был возвращён на родину только в 1714 году и вскоре умер. Для старого Шереметева это стало страшным ударом. «Едва дыхание во мне содержится, и зело опасаются, дабы внезапно меня грешника смерть не постигла, понеже все мои составы ослабели и владети не могу», — писал он графу Апраксину после гибели сына. Соратник Петра пережил сына ненамного. В 1719 году он скончался и был похоронен в Петербурге на Лазаревском кладбище.